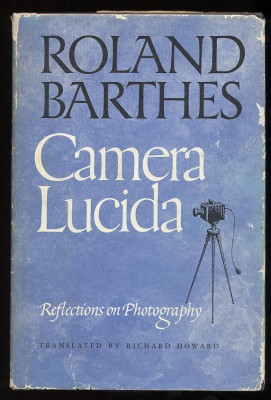Жизнь - как Удивительное Путешествие.
Ролан Барт. camera lucida
Классика теории фотографии.
На сайте мы выложили книгу без фотографий - только тексы.
Для желающих увидеть оригинальный текст с фотографиями - пожалуйста, скачивайте архив.
Книга запакована в rar-архив, качайте смело:).
изменением изображений. Свобода потреблять большое количество снимков и материальных благ приравнивается к свободе вообще. Сужение свободы политического выбора до свободы экономического потребления нуждается в неограниченном производстве и потреблении фотоизображений." — S. Sontag. On Photography. New York, 1976, p. 178-179.
11. Михаил Рыклин Роман с фотографией
"Flesh composed of suns? How can such be?"
Exclaim the simples ones.
R. Browning
В небольшой — сравнительно с литературой о живописи, романе и кино — библиотеке книг, посвященных семиотике и философии фотографии, работа Ролана Барта занимает совершенно особое место. Во-первых, это последняя книга, опубликованная им при жизни; выход "Camera lucida" практически совпадает с трагической гибелью ее автора (25 февраля 1980 г. в самом центре Парижа, недалеко от Коллеж де Франс, Барт попал под машину, а 27 марта того же года скончался в больнице Питье-Сальпетриер). Во-вторых, эта книга написана в совершенно необычной даже для создателя политической семиологии тональности — биографические обстоятельства ее написания определяют ее построение в большей мере, чем какие-либо теоретические соображения: она развивается не только (и даже не столько) как феноменология фотографии, но прежде всего как симптом, блокируемый конкретной фотографией конкретного, любимого человека (умершей в 1977 г. матери автора, Генриетты Барт). Исследование фотографии, автобиография и работа траура связаны в этой работе настолько тесно, что, разводя их, мы рискуем утратить контакт с текстом, работающим во всех этих регистрах одновременно и порождающим специфические, часто теоретически непредусмотренные эффекты.
Барт прекрасно понимает, что причина невиданного распространения фотоизображений в обществах потребления коренится в их независимости от производителя — фотограф всего лишь создает условия процесса, который является "оптико-химическим". Вездесущность фото неотделима от его механического происхождения. За полтора века своего существования фотография радикально изменила условия функционирования системы традиционных искусств. Поэтому когда ей , наконец, был дарован статус искусства, фотография тут же поставила его под сомнение. С ее легкой руки подлинное искусство стало отождествляться с тем, что наиболее радикально подрывает цели традиционного искусства; ценностью отныне наделяется не искусство как таковое, а уникальный момент, когда неискусство становится искусством. Причем нет никакой возможности это мгновение растянуть. Искусство в невиданной прежде степени связывается с массовым потреблением. "Обучая нас новому визуальному коду, — пишет в книге "О фотографии" Сьюзен Зонтаг, — фотография изменяет и расширяет наши представления о том, что достойно быть замеченным и за чем мы вправе наблюдать. Она представляет собой грамматику и, что еще важнее, этику визуального восприятия. Грандиознейшее достижение фотографии заключается в создании у нас впечатления, что мы можем удерживать в голове весь мир как антологию фотоснимков.
Коллекционировать фотографии значит коллекционировать мир. Киноленты и телепрограммы начинаются и кончаются... а изображенное на фото — легкий, дешевый, без труда переносимый, собираемый и хранимый объект — остается"1. Опыт общения с миром впервые может быть упакован в альбом, расположиться на поверхности изображения. Альбомы не только сплачивают семьи, но и, например, облегчают полиции поиски преступников. Промышленное использование фотографии рационализует процессы управления; без фотографии на документах неполна бюрократическая каталогизация мира2.
Фотография кладет начало цепной реакции распространения средств массового воспроизведения, этапами которой являются массовая пресса, радио, кино, телевидение, видео, компьютер. Если принять фотографию за элементарную форму, клеточку этого процесса, то можно сказать, что она открывает новую эпоху, строющую принципиально иные отношения со смыслом, временем, историей. Особенность подхода Барта состоит в том, что он заключает в скобки социальные аспекты фотографии; устремляясь на поиски сущности (ноэмы) фото, он радикально отделяет этот вид изображения от других, прежде всего от кино, литературы и живописи. Он ищет в фотографии не сходное, а уникальное, неповторимое, сколь бы банальным оно ни казалось. Культурные обертоны в "Camera lucida" служат не более чем прологом к идиосинкратическому, личному видению фотографии, чуждому диалектике и опосредованию. Если Бенья-мин, Зонтаг и другие теоретики фото берут его в историческом контексте, во взаимосвязи с другими видами технического воспроизведения, то Барт настаивает на уникальности отношения фотографии к смерти, на ее связи с тотемным театром, с магией, с хокку, с тем, что массовому воспроизведению не поддается. Впрочем, и ноэматический слой текста французского семиолога не является самым глубоким — за интересом к эйдосу Фотографии как таковой скрывается одержимость одной-единственной фотографией. Барт видит в фотографии лишь бесконечное разбухание референта, проявляя безразличие к ее культурной стороне, снисходительно именуемой им studium, и к тому, что стремится вложить в нее сам фотограф (и что, конечно, значительно шире фотографии с точки зрения Operator'a, сводимой к недоступным Барту чисто техническим аспектам съемки). Особенно его раздражает стремление отдельных фотографов к "совершенству", трактуемое как заведомая фикция — не случайно в книге ни разу не упомянут наиболее яркий представитель перфекционизма в фотографии, американец Эдвард Уэстон. Безукоризненность освещения, изощренность композиции, точность фокусировки и совершенство печати не имеют для него сколько-нибудь существенного значения. Барт вносит в свое исследование непрогнозируемый фактор страдания, работы скорби, что делает его небольшую книгу уникальной даже в тех местах, где он, казалось бы, ограничивается повторением известных вещей, наработанных традицией. Все эти совпадения обволакиваются непередаваемым настроением, тем, что Ницше обозначал словом Stimmung. Там, где другие авторы видят важные культурные изменения в их начальной стадии, готовой передать эстафету другой, более продвинутой системе изображения, Барт помещает ничем не опосредованную смерть, отделенную непроницаемой стеной от таких проявлений жизни, как литература, кино, живопись. Его интересует не то, что культурно объединяет эти виды искусства, но то, что разъединяет их ноэматически, т. е. непоправимо. В "Светлой камере" Барт создал кентаврический жанр, в рамках которого вопрос о смысле обречен на бесконечность повторения. Даже когда текст Барта непроизвольно "выносит" на просторы культурологии, далеко за пределы амплуа Spectator'a, на которое он добровольно себя обрек, уникальность, единственность связи фотографии со смертью не подвергается сомнению. В отличие от романа Пруста, где каждый вид знаков (светские знаки, знаки любви, знаки искусства) вступает в собственные отношения со смертью, Барт наделяет этой привилегией только одно реле: фотографию. Для романа проект Барта слишком систематичен; он не хочет уступить вымыслу ни грана своего страдания, повторив основной жест романиста — превращение собственного страдания в несобственное. Не прибегая к спасительной силе вымысла, Барт остается автором и героем своего текста одновременно. В этом ему помогает недиалектичность фотографии, возносимая на недосягаемую высоту. В результате ее скромное безумие приобретает черты Безумия как такового. Со смертью фотографию связывает реле, которое в культуре соединяет ее также с кино, видео, компьютерными изображениями и другими формами виртуального. Замкнув фотореле на смерть,
Барт лишает себя возможности задействовать его еще раз. Тем самым катарсис становится невозможным. Смерть без катарсиса — единственное, что остается на меланхолической стадии отождествления с утраченным объектом.
Сьюзен Зонтаг оставила ценное свидетельство — желание Барта (высказанное им за полтора года до смерти, во время пребывания в Нью-Йорке) написать "настоящий" роман: "Как у Пруста" — добавил он, чтобы рассеять у аудитории последние сомнения. Вот точная цитата:" Будучи полтора года назад в Нью-Йорке, Барт во всеуслышание с еще неокрепшей решимостью заявил, что собирается написать роман. Не роман, которого можно было бы ожидать от критика, на мгновение превратившего Роб-Грийе в центральный персонаж современной литературы, или от писателя, чьи самые поразительные книги, "Ролан Барт Ролана Барта" и "Фрагменты любовного дискурса", стали торжеством модернистской прозы... когда вымысел тесно переплетен с интеллектуальной эссеистикой и автобиографической открытостью, а все произведение скорее напоминает разрозненные заметки, нежели тщательно выстроенное повествование. Нет, не модернистский — "настоящий роман", сказал он тогда. Как у Пруста." Чтобы полностью посвятить себя написанию этого романа, Барт подумывал оставить кафедру в Коллеж де Франс. "Смерть матери за два года до этого, — продолжает Зонтаг, — стала для него страшным ударом. Он вспоминал тогда, что Пруст смог начать "В поисках утраченного времени" лишь после смерти матери; характерно, что такую нужную ему силу он надеялся почерпнуть в глубокой скорби"3.
Написать "настоящий роман" французскому литературоведу так и не удалось — работа траура проявилась у него совершенно по-другому, чем у Пруста. Скорее всего, "Светлая камера" была той формой, в которой он реализовал стремление написать роман, формой, конечно, куда ближе стоящей к "Фрагментам любовного дискурса", чем к "Поискам", но вместе с тем пропитанной огромным количеством связанных с романом Пруста реминисценций и переплетений, вплоть до бессознательного цитирования и уподобления. Этот небольшой восьмидесятистраничный текст является "романом с фотографией" в двух разных, хотя и пересекающихся, смыслах. Первый смысл очевиден: это роман Барта с фотографией как видом изображения, поиск ее природы, ноэмы, эйдоса. О своем желании докопаться до сути фотографии автор заявляет с самого начала, предупреждая читателя, что опираться он собирается исключительно на свой личный опыт разглядывания фотографий, а не на предвзятые теории. Второй смысл, в каком "Camera lucida" является "романом с фотографией", неявен и проявляется постепенно, достигая своего апогея во второй части книги, в эпизодах рассматривания Фотографии в Зимнем Саду, возвратившей ему подлинную сущность умершей матери в ее детском снимке. Сначала кажется, что нежелание Барта редуцировать свой опыт чтения фотографий к общим рассуждениям о Фотографии обусловлено всеобщими методологическими соображениями (в пользу этой гипотезы говорит вся предыдущая работа Барта в области политической семиологии: подобное нежелание декларировалось им неоднократно и даже стало своеобразной визитной карточкой Барта-семиолога). И лишь во второй части книги выясняется, что причина этого нежелания не ограничивается сферой всеобщего и даже в ней не зарождается — она глубоко экзистенциальна, связана с утратой нежно любимого человека, матери автора. Впрочем, уже тональность первой части позволяет догадываться, что интерес Барта к фотографии не является простой демонстрацией метода.
Вчитайтесь в то, как резко разводит он культурный, "вежливый" интерес к фотографии, stadium, и "уколы", незако-дированные точки, которые спонтанно, не пройдя через культурные фильтры, атакуют глаз, знаменитые punctum'ы. Вторым не просто отдается теоретическое предпочтение, они инвестируются желанием необычной интенсивности, природа которого раскрывается только во второй части книги. Сила желания придает punctum'y небанальную амбивалентность. Сначала утверждается, что punctum фотографии обнаруживается мгновенно, при первом же просмотре он как бы "выпрыгивает" из фотографии навстречу взгляду. Потом (на примере фотографии семейства чернокожих американцев) выясняется, что punctum может быть обнаружен значительно позже, что он не исключает "латентного периода". Бывает, что punctum остается виртуальным, так никогда и не будучи обнаруженным (у изображенного на одном из фотопортретов Мэйплторпа Боба Уилсона есть неустановленный punctum). Впрочем punctum'ом может оказаться все тело, бесконечное количество испускаемых им точек, как в Фотографии в Зимнем Саду, где тело матери-ребенка обретается — "on retrouve", знаменитый прустовский термин — сразу, целиком, без какого-либо посредства культуры.
Впрочем, Барт всегда избегал однозначности и примешивал к чистоте объявленного метода аллогенные элементы или намеренно задействовал сразу несколько методов (например, в "Мифологиях" он опирался на соссюровскую лингвистику, экзистенциализм Сартра и марксистскую критику идеологии). В таких книгах, как "Фрагменты любовного дискурса" и "Ролан Барт Ролана Барта" критический и аффективный языки также переплетались достаточно тесно. И тем не менее, с "Camera lucida" связан прецедент — аффективный язык в ней впервые систематически доминирует над критическим (хотя это эпистемологическое преимущество обосновывается лишь отчасти и, конечно, связывается с ноэмой фотографии). Поглощенный работой траура меланхолик не до конца уверен, жив он или мертв, ему временно закрыт доступ в сферу, где образуются подобные различения. Он находится за пределами конституированного смысла, который в конечном счете участвовал в построении всех его предыдущих проектов, независимо от степени их авангардизма. В работе о фотографии мы присутствуем при нескольких попытках смысла конституировать себя, попыток, в результате неудачи которых "плохой объект", фотография, наделяется демоническими чертами, намертво сцепляется с референтом, помещается то в абсолютное прошедшее (аорист), то в предвосхищенное будущее время. Но "плохой объект" оказывается на свой лад невиданно прекрасным; банальная, замороженная в конкретном мгновении прошлого, асимволичная фотография все же удерживает внешние черты любимого существа, в ней его можно "обрести" (хотя и без катарсиса, на который
11. Михаил Рыклин Роман с фотографией
"Flesh composed of suns? How can such be?"
Exclaim the simples ones.
R. Browning
В небольшой — сравнительно с литературой о живописи, романе и кино — библиотеке книг, посвященных семиотике и философии фотографии, работа Ролана Барта занимает совершенно особое место. Во-первых, это последняя книга, опубликованная им при жизни; выход "Camera lucida" практически совпадает с трагической гибелью ее автора (25 февраля 1980 г. в самом центре Парижа, недалеко от Коллеж де Франс, Барт попал под машину, а 27 марта того же года скончался в больнице Питье-Сальпетриер). Во-вторых, эта книга написана в совершенно необычной даже для создателя политической семиологии тональности — биографические обстоятельства ее написания определяют ее построение в большей мере, чем какие-либо теоретические соображения: она развивается не только (и даже не столько) как феноменология фотографии, но прежде всего как симптом, блокируемый конкретной фотографией конкретного, любимого человека (умершей в 1977 г. матери автора, Генриетты Барт). Исследование фотографии, автобиография и работа траура связаны в этой работе настолько тесно, что, разводя их, мы рискуем утратить контакт с текстом, работающим во всех этих регистрах одновременно и порождающим специфические, часто теоретически непредусмотренные эффекты.
Барт прекрасно понимает, что причина невиданного распространения фотоизображений в обществах потребления коренится в их независимости от производителя — фотограф всего лишь создает условия процесса, который является "оптико-химическим". Вездесущность фото неотделима от его механического происхождения. За полтора века своего существования фотография радикально изменила условия функционирования системы традиционных искусств. Поэтому когда ей , наконец, был дарован статус искусства, фотография тут же поставила его под сомнение. С ее легкой руки подлинное искусство стало отождествляться с тем, что наиболее радикально подрывает цели традиционного искусства; ценностью отныне наделяется не искусство как таковое, а уникальный момент, когда неискусство становится искусством. Причем нет никакой возможности это мгновение растянуть. Искусство в невиданной прежде степени связывается с массовым потреблением. "Обучая нас новому визуальному коду, — пишет в книге "О фотографии" Сьюзен Зонтаг, — фотография изменяет и расширяет наши представления о том, что достойно быть замеченным и за чем мы вправе наблюдать. Она представляет собой грамматику и, что еще важнее, этику визуального восприятия. Грандиознейшее достижение фотографии заключается в создании у нас впечатления, что мы можем удерживать в голове весь мир как антологию фотоснимков.
Коллекционировать фотографии значит коллекционировать мир. Киноленты и телепрограммы начинаются и кончаются... а изображенное на фото — легкий, дешевый, без труда переносимый, собираемый и хранимый объект — остается"1. Опыт общения с миром впервые может быть упакован в альбом, расположиться на поверхности изображения. Альбомы не только сплачивают семьи, но и, например, облегчают полиции поиски преступников. Промышленное использование фотографии рационализует процессы управления; без фотографии на документах неполна бюрократическая каталогизация мира2.
Фотография кладет начало цепной реакции распространения средств массового воспроизведения, этапами которой являются массовая пресса, радио, кино, телевидение, видео, компьютер. Если принять фотографию за элементарную форму, клеточку этого процесса, то можно сказать, что она открывает новую эпоху, строющую принципиально иные отношения со смыслом, временем, историей. Особенность подхода Барта состоит в том, что он заключает в скобки социальные аспекты фотографии; устремляясь на поиски сущности (ноэмы) фото, он радикально отделяет этот вид изображения от других, прежде всего от кино, литературы и живописи. Он ищет в фотографии не сходное, а уникальное, неповторимое, сколь бы банальным оно ни казалось. Культурные обертоны в "Camera lucida" служат не более чем прологом к идиосинкратическому, личному видению фотографии, чуждому диалектике и опосредованию. Если Бенья-мин, Зонтаг и другие теоретики фото берут его в историческом контексте, во взаимосвязи с другими видами технического воспроизведения, то Барт настаивает на уникальности отношения фотографии к смерти, на ее связи с тотемным театром, с магией, с хокку, с тем, что массовому воспроизведению не поддается. Впрочем, и ноэматический слой текста французского семиолога не является самым глубоким — за интересом к эйдосу Фотографии как таковой скрывается одержимость одной-единственной фотографией. Барт видит в фотографии лишь бесконечное разбухание референта, проявляя безразличие к ее культурной стороне, снисходительно именуемой им studium, и к тому, что стремится вложить в нее сам фотограф (и что, конечно, значительно шире фотографии с точки зрения Operator'a, сводимой к недоступным Барту чисто техническим аспектам съемки). Особенно его раздражает стремление отдельных фотографов к "совершенству", трактуемое как заведомая фикция — не случайно в книге ни разу не упомянут наиболее яркий представитель перфекционизма в фотографии, американец Эдвард Уэстон. Безукоризненность освещения, изощренность композиции, точность фокусировки и совершенство печати не имеют для него сколько-нибудь существенного значения. Барт вносит в свое исследование непрогнозируемый фактор страдания, работы скорби, что делает его небольшую книгу уникальной даже в тех местах, где он, казалось бы, ограничивается повторением известных вещей, наработанных традицией. Все эти совпадения обволакиваются непередаваемым настроением, тем, что Ницше обозначал словом Stimmung. Там, где другие авторы видят важные культурные изменения в их начальной стадии, готовой передать эстафету другой, более продвинутой системе изображения, Барт помещает ничем не опосредованную смерть, отделенную непроницаемой стеной от таких проявлений жизни, как литература, кино, живопись. Его интересует не то, что культурно объединяет эти виды искусства, но то, что разъединяет их ноэматически, т. е. непоправимо. В "Светлой камере" Барт создал кентаврический жанр, в рамках которого вопрос о смысле обречен на бесконечность повторения. Даже когда текст Барта непроизвольно "выносит" на просторы культурологии, далеко за пределы амплуа Spectator'a, на которое он добровольно себя обрек, уникальность, единственность связи фотографии со смертью не подвергается сомнению. В отличие от романа Пруста, где каждый вид знаков (светские знаки, знаки любви, знаки искусства) вступает в собственные отношения со смертью, Барт наделяет этой привилегией только одно реле: фотографию. Для романа проект Барта слишком систематичен; он не хочет уступить вымыслу ни грана своего страдания, повторив основной жест романиста — превращение собственного страдания в несобственное. Не прибегая к спасительной силе вымысла, Барт остается автором и героем своего текста одновременно. В этом ему помогает недиалектичность фотографии, возносимая на недосягаемую высоту. В результате ее скромное безумие приобретает черты Безумия как такового. Со смертью фотографию связывает реле, которое в культуре соединяет ее также с кино, видео, компьютерными изображениями и другими формами виртуального. Замкнув фотореле на смерть,
Барт лишает себя возможности задействовать его еще раз. Тем самым катарсис становится невозможным. Смерть без катарсиса — единственное, что остается на меланхолической стадии отождествления с утраченным объектом.
Сьюзен Зонтаг оставила ценное свидетельство — желание Барта (высказанное им за полтора года до смерти, во время пребывания в Нью-Йорке) написать "настоящий" роман: "Как у Пруста" — добавил он, чтобы рассеять у аудитории последние сомнения. Вот точная цитата:" Будучи полтора года назад в Нью-Йорке, Барт во всеуслышание с еще неокрепшей решимостью заявил, что собирается написать роман. Не роман, которого можно было бы ожидать от критика, на мгновение превратившего Роб-Грийе в центральный персонаж современной литературы, или от писателя, чьи самые поразительные книги, "Ролан Барт Ролана Барта" и "Фрагменты любовного дискурса", стали торжеством модернистской прозы... когда вымысел тесно переплетен с интеллектуальной эссеистикой и автобиографической открытостью, а все произведение скорее напоминает разрозненные заметки, нежели тщательно выстроенное повествование. Нет, не модернистский — "настоящий роман", сказал он тогда. Как у Пруста." Чтобы полностью посвятить себя написанию этого романа, Барт подумывал оставить кафедру в Коллеж де Франс. "Смерть матери за два года до этого, — продолжает Зонтаг, — стала для него страшным ударом. Он вспоминал тогда, что Пруст смог начать "В поисках утраченного времени" лишь после смерти матери; характерно, что такую нужную ему силу он надеялся почерпнуть в глубокой скорби"3.
Написать "настоящий роман" французскому литературоведу так и не удалось — работа траура проявилась у него совершенно по-другому, чем у Пруста. Скорее всего, "Светлая камера" была той формой, в которой он реализовал стремление написать роман, формой, конечно, куда ближе стоящей к "Фрагментам любовного дискурса", чем к "Поискам", но вместе с тем пропитанной огромным количеством связанных с романом Пруста реминисценций и переплетений, вплоть до бессознательного цитирования и уподобления. Этот небольшой восьмидесятистраничный текст является "романом с фотографией" в двух разных, хотя и пересекающихся, смыслах. Первый смысл очевиден: это роман Барта с фотографией как видом изображения, поиск ее природы, ноэмы, эйдоса. О своем желании докопаться до сути фотографии автор заявляет с самого начала, предупреждая читателя, что опираться он собирается исключительно на свой личный опыт разглядывания фотографий, а не на предвзятые теории. Второй смысл, в каком "Camera lucida" является "романом с фотографией", неявен и проявляется постепенно, достигая своего апогея во второй части книги, в эпизодах рассматривания Фотографии в Зимнем Саду, возвратившей ему подлинную сущность умершей матери в ее детском снимке. Сначала кажется, что нежелание Барта редуцировать свой опыт чтения фотографий к общим рассуждениям о Фотографии обусловлено всеобщими методологическими соображениями (в пользу этой гипотезы говорит вся предыдущая работа Барта в области политической семиологии: подобное нежелание декларировалось им неоднократно и даже стало своеобразной визитной карточкой Барта-семиолога). И лишь во второй части книги выясняется, что причина этого нежелания не ограничивается сферой всеобщего и даже в ней не зарождается — она глубоко экзистенциальна, связана с утратой нежно любимого человека, матери автора. Впрочем, уже тональность первой части позволяет догадываться, что интерес Барта к фотографии не является простой демонстрацией метода.
Вчитайтесь в то, как резко разводит он культурный, "вежливый" интерес к фотографии, stadium, и "уколы", незако-дированные точки, которые спонтанно, не пройдя через культурные фильтры, атакуют глаз, знаменитые punctum'ы. Вторым не просто отдается теоретическое предпочтение, они инвестируются желанием необычной интенсивности, природа которого раскрывается только во второй части книги. Сила желания придает punctum'y небанальную амбивалентность. Сначала утверждается, что punctum фотографии обнаруживается мгновенно, при первом же просмотре он как бы "выпрыгивает" из фотографии навстречу взгляду. Потом (на примере фотографии семейства чернокожих американцев) выясняется, что punctum может быть обнаружен значительно позже, что он не исключает "латентного периода". Бывает, что punctum остается виртуальным, так никогда и не будучи обнаруженным (у изображенного на одном из фотопортретов Мэйплторпа Боба Уилсона есть неустановленный punctum). Впрочем punctum'ом может оказаться все тело, бесконечное количество испускаемых им точек, как в Фотографии в Зимнем Саду, где тело матери-ребенка обретается — "on retrouve", знаменитый прустовский термин — сразу, целиком, без какого-либо посредства культуры.
Впрочем, Барт всегда избегал однозначности и примешивал к чистоте объявленного метода аллогенные элементы или намеренно задействовал сразу несколько методов (например, в "Мифологиях" он опирался на соссюровскую лингвистику, экзистенциализм Сартра и марксистскую критику идеологии). В таких книгах, как "Фрагменты любовного дискурса" и "Ролан Барт Ролана Барта" критический и аффективный языки также переплетались достаточно тесно. И тем не менее, с "Camera lucida" связан прецедент — аффективный язык в ней впервые систематически доминирует над критическим (хотя это эпистемологическое преимущество обосновывается лишь отчасти и, конечно, связывается с ноэмой фотографии). Поглощенный работой траура меланхолик не до конца уверен, жив он или мертв, ему временно закрыт доступ в сферу, где образуются подобные различения. Он находится за пределами конституированного смысла, который в конечном счете участвовал в построении всех его предыдущих проектов, независимо от степени их авангардизма. В работе о фотографии мы присутствуем при нескольких попытках смысла конституировать себя, попыток, в результате неудачи которых "плохой объект", фотография, наделяется демоническими чертами, намертво сцепляется с референтом, помещается то в абсолютное прошедшее (аорист), то в предвосхищенное будущее время. Но "плохой объект" оказывается на свой лад невиданно прекрасным; банальная, замороженная в конкретном мгновении прошлого, асимволичная фотография все же удерживает внешние черты любимого существа, в ней его можно "обрести" (хотя и без катарсиса, на который