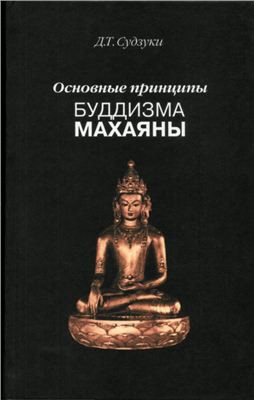Основные принципы буддизма Махаяны.
Дайсэцу Тэйтаро Судзуки
Перевод с английского и послесловие "Судзуки: буддист и буддолог" С. В. Пахомова.
Книга известного японского буддолога Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870 - 1966), написанная в начале XX в., является одной из первых систематических и глубоких работ в области изучения махаяны.
Автор развеивает миф о том, что махаяна была искаженной формой буддизма и показывает её органическую встроенность в общебуддийский контекст.
Подробно разбираются такие основополагающие темы буддизма махаяны, как ступени пути бодхисаттвы, соотношение пробуждения и нирванического покоя, высшая реальность Дхармакаи, связь абсолютного и относительного уровней бытия, концепция трех тел Будды и др.
Ориентируясь на западных читателей, автор старается представить буддийские взгляды и теории в максимально ясной форме и часто ищет для них аналоги в христианской западной культуре.
От переводчика: Миссия Судзуки, имевшая своей целью критику существовавших подходов к махаяне и более адекватное изложение махаянских идей, оказалась вполне успешной.
В его лице махаяна нашла горячего защитника.
Судзуки сумел показать, что эта ступень буддийской духовной истории ни в коем случае не является шагом назад, напротив, махаяна — ещё более полное и живое раскрытие, прорастание тех семян, которые были брошены в почву духовного ожидания самим основателем буддизма, но которые в силу определенных причин проросли только в более позднее время.
И пусть буддисты хинаяны с рациональной точки зрения во многом более точно описывают некоторые аспекты личности Будды, нельзя отрицать и того, что провозглашенный Буддой тезис о приемлемости любого учения, которое согласуется в меньшей или большей степени с духом (не с буквой!) буддизма, вполне оправдывает многочисленные поиски и находки адептов махаянского учения.
В это верил Судзуки, об этом он писал, это он пытался отстаивать.
Послесловие к: Судзуки Д.Т. Основные принципы буддизма махаяны / Пер. с англ. С.В. Пахомова. СПб.: Наука, 2002. С.362-380
Имя японского буддолога Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870-1966) хорошо известно европейскому и американскому читателю. Именно Судзуки в ясной и популярной форме «открыл» для них одну из форм дальневосточного буддизма — чань (дзэн). В его изложении дзэн выглядел настолько выразительно, что в последующем все авторы, писавшие на эту тему, неизбежно должны были, в большей или меньшей мере, положительно или отрицательно, затрагивать идеи, которые рассматривал Судзуки. Что же касается приема у той аудитории, к которой обращался автор, то он оказался самым радушным. Не одно поколение западных интеллектуалов с восторгом зачитывалось его произведениями. Среди мыслителей, ученых, деятелей культуры, которые серьезно интересовались творчеством Судзуки и которые в той или иной степени испытали на себе его влияние, можно назвать М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, Л. Витгенштейна, А. Тойнби, музыкантов Д. Кейджа и Д. Гиллеспи, писателей Г. Гессе, Дж. Керуака и Дж. Сэлинджера, психолога К. Хорни, одного из отцов philosophia perennia О. Хаксли. Наконец, под воздействием его сочинений появилась целая плеяда популяризаторов дзэн, в том числе таких талантливых, как Р.Х. Блайс и А. Уоттс. Великий психоаналитик К. Юнг отмечал, что «работы Судзуки о дзэн-буддизме принадлежат к числу лучших вкладов в изучение живого буддизма, появившихся за последние десятилетия», а Кристмас Хамфрис, английский буддист, считал его «величайшим из современных авторитетов в дзэн-буддизме».
Этот «феномен Судзуки» имел и положительную, и отрицательную стороны. Положительным можно считать то, что Запад, в сущности, впервые с его помощью узнал пусть причудливый, экзотичный, парадоксальный, однако необычайно живой духовный мир, несущий в себе мощный положительный заряд для всех тех, кто истосковался по подлинному бытию, — и это несмотря на то, что герои дзэн, учения которых описывал и толковал Судзуки, жили и изрекали свои глубокие сентенции в весьма отдаленное время: расцвет китайских последователей чань приходится на VIII — XII вв.
Начиная с 1927 г. (вспомним, что именно в этот год вышла и фундаментальная работа Мартина Хайдеггера «Бытие и время»), когда были опубликованы первые сборники его великолепных «Эссе о дзэн-буддизме», Судзуки методично писал и публиковал произведения, посвященные разнообразным проблемам дзэн-буддизма. В них он продолжал свою линию на расшатывание стереотипов, пустивших корни во многом благодаря стараниям старой гвардии западноевропейских буддологов (мы имеем в виду школы Рис-Дэвидсов и Г. Ольденберга), в частности стереотипов о том, будто бы единственным адекватным выражением буддийского мировоззрения является так называемый «южный буддизм», палийская традиция, а все прочее —его искажения и ненужные добавления. Наряду с Судзуки, примерно в том же «деструктивном» ключе действовала и наша отечественная наука во главе с такими корифеями-востоковедами, как Ф.И. Щербатской, О.О. Розенберг, позже Е.И. Обермиллер — однако, если их труды носили в целом академический характер и были направлены на то, чтобы откорректировать взгляды зарубежных коллег, то сочинения Судзуки воздействовали не только на научное сознание ориенталистов, но и на массовое сознание, будучи научно-популярным изложением в лучшем смысле этого слова. Судзуки выступал в защиту методологических приемов, которые в то время не имели еще в науке широкой поддержки — в частности, за более взвешенный и симпатизирующий к предмету подход, лишенный привычного для западных исследователей способа освещения на основе только европейской философии и христианских ценностей. Судзуки призывал изучать инокультурную традицию не извне, а изнутри.
Его стараниями дзэн как бы сам заговорил о себе — языком парадоксов, полунамеков и умолчания. С его помощью дзэн, освободившись от ярлыка «искаженного учения», превратился в благодатное поле для исследования, привлекшее массы ученых новой формации, пошедших намного дальше Судзуки.
Одним их отрицательных аспектов воздействия Судзуки, видимо, было монопольное положение его авторитета в сознании западной интеллигенции. В условиях монополии любое суждение, которое высказывает авторитет, любые его оценки воспринимается как последнее слово истины. Между тем, увлеченно описывая дзэнские учения, пытаясь проводить искусные параллели между дзэнской традицией и европейскими философско-религиозными системами мысли, Судзуки и явно, и неявно отодвигал в тень все прочие направления буддизма. Богатейшая история буддизма свелась для него к истории дзэн; единственным подлинным течением махаяны он считал дзэн; он заходил настолько далеко, что вообще квинтэссенцию дальневосточной культуры (имея в виду, прежде всего, конечно, родную ему Японию, но также и Китай) находил исключительно в дзэн. Все, что несло в себе положительный, жизненный заряд, оборачивалось дзэном. Даже при сопоставлении с западной мыслью, с христианством (в частности, апеллируя к Мейстеру Экхарту), он искал в них аналоги дзэн. Хотя в оправдание Судзуки можно заметить, что для него дзэн был не столько конкретной школой махаянского буддизма, сколько особым измерением человеческого духа — состоянием «высшей просветленности», а раз это так, то для него вполне логично было искать «образцы» дзэн в самых разных культурах. Неудивительно, что идеи Судзуки вторили мыслям одного из основоположников психологии религии, Уильяма Джеймса, который в своем фундаментальном труде «Многообразие религиозного опыта», систематизирующем и обобщающем самые разные случаи религиозных переживаний и откровений, приходит к представлению о религии как о пространстве глубинного психологического опыта, где человек сталкивается с чем-то таким, что неизмеримо превосходит его ограниченное существование, расширяет его сознание, уводит за пределы пространства, времени и судьбы. Немного раньше, чем труд Джеймса, вышло в свет и первое крупное монографическое произведение Судзуки «Основные принципы буддизма махаяны», в котором уже появляются первые идеи относительно «сокровенных уголков человеческого сердца», те идеи, которые впоследствии сольются с его представлением о дзэн как высшем пространстве духа.
Пристрастность Судзуки сказалась еще и в выборе материала, посвященного дзэн. Будучи энциклопедически образованным специалистом, прекрасно осведомленным о находках в пещерах Дуньхуана, в числе которых обнаружилось множество документов, корректирующих привычное представление о распространении буддизма в Китае и о чаньских субтрадициях, он, тем не менее, принимает традиционный взгляд о том, что «внезапная» Южная школа чань, во главе с Хуэй-нэном и Шэнь-хуэем, является более адекватным воплощением буддийской традиции, нежели «постепенная» Северная школа во главе с Шэньсю. Современная наука, особенно после трудов Г. Дюмулена и Дж. Мак-Рэя, возражает против такого упрощенного подхода, считая, что в реальности различие между этими школами было не столь существенным и приводя доводы в пользу обоюдных заимствований с той и с другой стороны. В наше время происходит настоящая реабилитация Северной школы и вновь ставится вопрос о том, кто же был настоящим Шестым патриархом, вопрос, который после работ Судзуки вроде бы должен навсегда исчезнуть.
Не вполне приемлемой с научной точки зрения стала и демонстративная нелюбовь Судзуки к описанию дзэн с исторических позиций. В его трудах эта установка часто приводит к тому, что исторические свидетельства о дзэн смешиваются с фиктивным и легендарным материалом; вымысел и правда тесно соединяются здесь, образуя тугой сплав, разъять который автор не имеет большого желания. В тридцатые-пятидесятые годы весь ученый мир следил за полемикой, которая разгорелась между китайским буддологом Ху Ши и Судзуки. В центре которой как раз и стояло отношение к истории дзэн, а Ху Ши, как легко предположить, ратовал за исторический подход. Эта полемика не привела к победе одного из ее участников, однако она обогатила буддологию свежими идеями и подходами.
Наконец, Судзуки, опираясь, видимо, на собственный юношеский опыт, из всех дзэнских школ и направлений выбирает школу линьцзи (риндзай) с ее практиками коанов, именно ее он и представляет как основную выразительницу буддийского идеала (это естественно вытекает из его приверженности Южной школе). Вторая, не менее важная школа, цаодун (сото), практически остается у него без внимания. Таким образом, Судзуки выстраивает своеобразную линию предпочтений, которая выглядит у него так: буддизм в целом — махаяна — чань/дзэн — Южная школа — направление линьцзи/риндзай.
Несомненно, с научной точки зрения субъективные пристрастия не слишком уместны. Однако Судзуки начинал творить еще в то время, когда господствовал европоцентризм, когда недоставало знаний о дзэн, да и о махаяне в целом. Стремясь заполнить эту пустоту, он не всегда удерживался на позиции беспристрастного изложения и анализа фактов, но стремился пропустить их как бы через самого себя. Он вкладывал в науку свою собственную душу, часто превращаясь из строгого академического буддолога в буддиста, стремящегося как можно яснее и популярнее изложить постулаты своего учения.
--------------------------------------------------------------------------------
Дайсэцу Тэйтаро Судзуки [6] родился 18 октября 1870 г., недалеко от столицы, в рисоводческом центре Канадзава, в семье потомственных врачей. Его семейство, входившее традиционно в число самурайских рангов, влачило жалкое существование после декретов японского императора, направленных на ограничение прав самураев и тем самым лишивших его годового жалованья в виде определенного количества риса. Бед добавила и инфляция, разрушительная в масштабе всей страны. Когда Тэйтаро было шесть лет, умер его отец — тоже врач, который, помимо занятий медициной, глубоко интересовался наследием Конфуция. Старший брат устроился преподавать в школу, а мать сдавала внаем жилье, чтобы оплатить учебу Тэйтаро в начальной и средней школе. Она также видела своего младшего сына врачом, однако выучиться на доктора медицины стоило слишком дорого; поэтому окончив школу, Судзуки в восемнадцать лет устроился работать школьным учителем в какой-то глухой рыбацкой деревушке, где и преподавал арифметику, чтение, письмо и английский язык. Тем временем умерла его мать, и он оказался полностью предоставлен самому себе. Возвратившись домой, он спустя какое-то время отправляется в Токио, где с помощью одного из старших братьев поступает в Императорский университет, однако не слишком тщательно посещает лекции. Эта небрежность, впрочем, отчасти извинительна: Судзуки открывает в себе все более растущий интерес к духовным вопросам. Академические штудии (вскоре заброшенные окончательно) будущее светило буддологии безуспешно старается совместить с ученичеством в одном из дзэнских монастырей возле Камакуры. Он становится любимцем маститого буддийского наставника — Сяку Соэна. Судзуки не бросает мир, не принимает монашество; однако вместе с монахами, под руководством учителя, пытается приблизиться к реальности дзэн, практикуя традиционные упражнения. Кроме того, Сяку Соэн преподает ему пали, стремясь дать ученику представление о самых древних текстах буддизма. Немного погодя Судзуки, сопровождая своего наставника, отправляется в Америку, в Чикаго, где в 1893 г. собрался ставший впоследствии знаменитым Парламент Религий, на который съехались представители самых разных конфессий и учений. В Чикаго Сяку Соэн познакомился с неким богатым промышленником по имени Эдвард Хегелер, который не был чужд религиозных интересов и даже содержал издательский дом, выпускавший литературу соответствующего, как бы мы сказали нынче, «экуменического» содержания. Издательство нуждалось в переводчике, и учитель счел уместным рекомендовать своего ученика. Так 27-летний студент и дзэнский практик, к тому времени знавший в совершенстве китайский язык, оказался в штате Иллинойс, в городке Ла Салле, оторвавшись от безмятежного созерцания в тиши камакурских храмов и погрузившись в атмосферу издательских, переводческих и научных проектов. Он помогал переводить с китайского «Дао-дэ цзин», сотрудничал с периодическими изданиями. Довольно быстро овладел санскритом.
В 1900 г. появился переведенный им с китайского «Трактат о пробуждении веры в махаяну», который, следуя ошибочной традиции, он решительно приписывал перу индийского мастера Ашвагхоши, автора «Жизнеописания Будды», тем самым смещая реальное время написания этого сочинения на целых шесть столетий — с V в. н.э. до I в. до н.э.
В качестве секретаря и переводчика Сяку Соэна Судзуки совершил несколько туров по Америке; во время одной из этих поездок, приведшего их в Нью-Йорк, он встретил некую Беатрис Эрскин Лэйн, молодую американку, последовательницу теософии. Знакомство вскоре переросло в авторское содружество: они совместно написали несколько книг о восточных религиях. В 1911 она стала его женой, оставаясь верной соратницей, а в последующем неплохо дебютировала как автор-буддолог. К сожалению, преждевременная смерть Беатрис, которая последовала в конце 30-годов, прервала ее превосходные творческие начинания.
После одиннадцати лет работы у Хегелера (в течение которых Судзуки занимался корректурами, правками, редактурой и переводами, а под конец написал и собственную работу, о махаяне, первую в длинном списке своих сочинений, которые сделали его знаменитым. Эта книга, которую читатель держит в данный момент в руках, вышла в 1907 г. в Лондоне) Судзуки был отправлен им в Европу; он провел там несколько месяцев, изучая и копируя санскритские источники в Парижской Национальной библиотеке, а также переводя в Лондоне Эммануэля Сведенборга с английского на японский.
В конце концов Судзуки вернулся в Японию, где вновь поступил на службу к своему наставнику Сяку Соэну. Будучи признан непригодным к несению военной службы по причине физического несоответствия, Судзуки провел годы Первой мировой войны в Токио, занимаясь преподавательством в Школе пэров и в Императорском университете. В 1921 г. он принял место в Университете Отани в Киото, где проработал в течение двадцати лет. Именно тогда он стал постепенно возрастать как специалист по дзэн-буддизму, именно тогда он выпустил в свет свои знаменитые «Эссе о дзэн-буддизме», до сих пор играющие немалую роль для всякого, кто впервые прикасается к этому странному и интересному направлению буддизма.
Постепенно росла и его мировая слава. Судзуки, хотя он так и не получил систематического академического образования (степень доктора — но лишь литературы — была ему присуждена университетом Отани) стал членом японской Академии; ему была присуждена премия Асахи за плодотворную деятельность в области культуры. Судзуки повсеместно получил признание как выдающийся ученый и оригинальный мыслитель. Он также приобрел известность благодаря тому, что попытался по-своему преодолеть вековечный разлом между Западом и Востоком, стараясь находить и на западной почве те же принципы, которые вдохнули жизнь в дальневосточную культуру. Иначе говоря, Судзуки выступил как своеобразный «экуменист», сближающий народы, культуры и религии — правда, делал он это на основе все-таки Востока, духовной квинтэссенцией которого считал именно дзэн. В 1936 г. он присутствовал на Мировом конгрессе религий и произвел там столь неизгладимое впечатление, что и много лет спустя его участники зримо представляли себе его образ; Судзуки запомнился даже не столько своим выступлением и докладом, сколько некоей харизматичностью, гармоничным соединением четкого интеллекта и глубинной нравственной основы, сердца, отданного буддизму. В научной среде редко можно было встретить (да и сейчас это еще встречается нечасто) ученого, который не только интеллектуально погружался бы в выбранный им предмет, но и пытался бы строить свою жизнь в согласии с изучаемыми воззрениями. Уникальность подобного сочетания приводила знавших Судзуки людей в восхищение. После постигшей его трагедии (смерть жены) Судзуки вновь становится странником. Он разъезжает по миру, в основном по Европе, читая лекции в университетах, проводя семинары. Он сходится с психоаналитиками — Карен Хорни, ученицей Карла Густава Юнга, и другими, проводит совместные мероприятия, имеющие целью выявить взаимосвязь и сходство между дзэнскими психопрактиками и психоанализом, увидеть, как расцветает человеческая личность при использовании этих средств. С 1949 г. Судзуки регулярно посещает и конференции в Гонолулу, посвященные выявлению точек сходства и различия между западноевропейской и восточной философиями. Вторую мировую войну он, как и Первую, пережил в Японии, но на этот раз внимание к его персоне со стороны властей было куда более настороженным, как это и естественно в случае с человеком, пацифистски настроенным, настаивающим на свертывании милитаристских программ. Буддийский дух его сказался здесь в полную меру, откликнувшись на самые злободневные проблемы современности. К слову сказать, Судзуки никогда не являлся анахоретом, но всегда старался быть в курсе тех событий, которые волновали мир.
В 1951 г. Судзуки окончательно переезжает в США. Получив финансовую помощь от нескольких американских университетов, он обосновывается в Нью-Йорке, где позже селится у потомков японских иммигрантов. Еще долгое время, удивляя всех своей работоспособностью, стареющий мастер продолжает свою интеллектуальную деятельность — пишет статьи, преподает в университетах, участвует в конференциях — но всюду его сопровождает теперь мисс Окамура, которая стала его самым верным и поистине незаменимым помощником. Она следила за режимом дня и питанием Судзуки, помогала систематизировать его гигантскую библиотеку, водила его в университет, записывала для него лекции, ездила с ним по всему миру как секретарь. Это было, наверное, чисто в японском духе — забыть о себе и отдать всю свою посильную помощь великому ученому, имя которого сейчас повсеместно известно, в то время как имя его стойкой помощницы фактически кануло в Лету.
Умер Судзуки 16 июля 1966 г.
--------------------------------------------------------------------------------
Благодаря своим ярким работам, посвященным дзэн-буддизму, Судзуки, по существу, добился того, что его преимущественно воспринимают сейчас именно как специалиста по этой школе буддизма. Гораздо менее известен он как буддолог махаяны в целом. А между тем он начинал свою научную деятельность именно в этой своей «ипостаси», чему подтверждение — представленная читателям книга.
В «Основных принципах махаяны» можно различить как минимум два взаимосвязанных направления авторской мысли. Во-первых, Судзуки, восстанавливая историческую справедливость, пытается исправить сложившийся в среде западных ученых неадекватный образ махаяны, а именно: как «ложной» формы буддизма; как деградировавшей со временем ступени буддизма; как не имеющей большого значения для понимания сущности буддизма. Иначе говоря, он старается представить махаянское учение исходя, как он считает, из самосознания самих махаянистов. Во-вторых, он стремится показать, в чем именно буддизм махаяны может походить и в чем отличаться от «религии откровения», т. е. проводит своего рода популярный компаративный анализ. Мы вначале коснемся второго направления его произведения.
Несомненно, Судзуки учитывал, что аудитория, к которой он потенциально апеллировал — а его произведение писалось и печаталось в западной стране — являлась носительницей тех ценностей, основу которых составляла христианская религия. Понятно, что эта эпоха, насыщенная грозовыми предчувствиями грядущих мировых столкновений, была временем брожения умов и низвержения прежних авторитетов, временем, устами Ницше громко заявившим о смерти Бога, временем, которое во главу угла начало ставить «права человека» и чисто индивидуалистический подход к миру, зачастую потребительский, а то и откровенно хищнический. Тем не менее, несмотря на то, что Запад явно двигался в сторону переосмысления своих основ и даже к отказу от них, христианские ценности и на рубеже XIX — XX столетий все еще оставались неотъемлемой частью мировоззренческой системы координат. Поэтому в первую очередь произведение Судзуки было обращено тем людям, той основной массе людей, которые, являясь, по его мнению, прохристиански настроенными, еще не отрешились от «наивных», «агностическо-материалистических» представлений о высшей реальности и которые нуждались, не ведая о том, в своего рода прививке буддийского сострадания. В основе же буддийского сострадания лежит отрицание абсолютного характера «я». Именно эта авторская установка — которая, впрочем, не заявлена в отчетливой форме, но о которой можно судить на основании косвенных данных — сообщает тексту «Основных принципов» безусловный полемический задор миссионерского толка. Миссионерская деятельность как таковая предполагает не столько процесс разыскания истины (которая уже известна заранее) и вдумчивого размышления о постулатах, за которые держится противник, сколько стремление обнаружить в них слабые стороны, подвергнуть их критике, опровергнуть и тем самым возвысить свое собственное учение. Те места книги, в которых Судзуки подвергает критике представления религий откровения, в первую очередь христианские, являются на мой взгляд, наиболее слабыми ее частями. И не столько потому, что он не пытается текстуально опираться на стойкую буддийскую традицию отрицания Ишвары, бога-творца в индуизме, не приводит цитат, опровергающих существование творца — которые могли бы быть применимы и в вероятной полемике буддизма с христианством — сколько потому, что он не дает себе труда более внимательно рассмотреть положения критикуемой стороны, задаться вопросом, действительно ли объект критики таков, каким он себе его рисует. Судзуки практически не отличает в христианстве разные школы и направления, постоянно смешивает христианство с гностическими идеями, неадекватно трактует Библию (все эти и другие моменты отмечаются нами в примечаниях). В этом смысле сам Судзуки парадоксальным образом превращается в тот самый «обыденный» ум, который он на протяжении всего своего трактата всячески изводит, противопоставляя ему просветленную установку бодхисаттвы. Автор часто пытается отыскать в европейской культуре мысли, созвучные своим представлениям о махаяне. Он цитирует Теннисона, Уитмена, Карлейля, Канта, Толстого, трактуя их взгляды в махаянском духе, и невольно внушает идею истинности махаяны как особого духовного прозрения, выходящей за пределы конкретного буддийского направления. Максимализм Судзуки способствует тому, что у него все становится махаяной либо отдельными ее аспектами. Все то, что он одобряет из западной духовной сферы, насыщается махаяной, тогда как то, что искажает общую идеальную картину, получает ярлык «эгоцентрированности», мешающей спонтанному движению Дхармакаи. К сожалению, именно под таким углом зрения он в основном рассматривает и христианство. В более поздних работах он, к счастью, занимает более взвешенную позицию и уже не выступает с критикой христианских основоположений, предпочитая проводить сравнительный анализ мистических учений той и другой религии.
Несомненно, для современных буддологов фигура Судзуки-буддолога махаяны должна выглядеть достаточно анахроничной. Многие идеи, о которых он писал, изрядно устарели. Вскоре после написания Принципов наука стала стремительно уходить в отрыв: в научный оборот входят документы, найденные в пещерах Дуньхуана, сильное влияние оказывает русская школа во главе с академиком Ф.И. Щербатским, появляется большое количество монографий о буддизме и научно сделанных переводов оригинальных текстов. В послевоенные годы буддология переживает новый взлет, связанный с появлением на Западе тибетской буддийской традиции, наиболее полно сохранившей вытесненный из Индии буддизм. Что касается японской науки, то она встает вровень с западными аналогами, а по количеству написанных и переведенных трудов давно в наше время обошла все остальные буддологические школы.
Бесспорной же заслугой Судзуки является представление махаяны не как исторического памятника, но как факта современности, как живой веры, владеющей умами десятков миллионов людей. Он как бы пытается пропустить сквозь махаянский фильтр различные проблемы, волнующие современных ему людей, скажем, когда высказывается по поводу социальной несправедливости.
Кроме того, нельзя не учитывать того факта, что он творил, что называется, в пустоте: ему не на кого было опереться в своей критике существовавших подходов к махаяне, предшественников у него не было. Таким образом, отстаивая адекватность махаяны, он, в ту пору еще малоизвестный ученый, был вынужден вступать в полемику с видными корифеями тогдашней научной мысли — Моньер-Вильямсом, Уодделлом, Билом и другими. Впрочем, в этом случае полемика не оборачивается миссионерским пылом; здесь мы видим чисто научную дискуссию, критику определенных научных гипотез, а не религиозных догматов. В этой полемике Судзуки достаточно плодотворен; и если после него те идеи относительно махаяны, которые отстаивали ученые «старой волны», повсеместно стали признаваться ошибочными, в этом есть и его несомненная лепта.
Разумеется, автор «Принципов» сам осознает, что его труд не является лишь дискуссионным трактатом. Научно-критическая часть не становится здесь самоцелью. По его замыслу, она лишь средство для расчищения авгиевых конюшен заблуждений по поводу махаяны. Поэтому, «разобравшись» со своими коллегами во вступительной части, Судзуки приступает к максимально ясному, «популярному» изложению основных положений махаянского учения. При этом главным источником для него становится один из первых апологетов махаяны, Ашвагхоша. Автор «Жизнеописания Будды», пожалуй, единственного достоверного произведения среди всего того, что приписывается ему, импонирует Судзуки как наиболее ранний а значит, самый авторитетный приверженец махаяны. Кроме того, Ашвагхоша кажется ему наиболее систематично мыслящим махаянским автором. Без особых оснований Д.Т. Судзуки делает Ашвагхошу автором сочинения, написанного намного позже (об этом уже говорилось выше), в котором среди прочего излагается концепция Татхагатагарбхи и Дхармакаи.
Для Судзуки Дхармакая является не столько одним, хотя и наиболее важным, из «тел» Будды, сколько всепронизывающей реальностью, источником бытия, творческим основанием всего сущего. Однако Дхармакая — это еще и имманентная сущность, постоянно присутствующая в вещах, которые, по идее, являются ее манифестациями. Дхармакая действует спонтанно, свободно, ее ничто не связывает и не может связать, однако она дает свободу и собственным «чадам», всем живым существам. Хотя, с одной стороны, они лишь «инструменты» воли Дхармакаи, и в этом смысле лишены самополагания и целенаправленности, с другой, именно Дхармакая «откликается» на те «призывы», которые исходят из поступков самих существ: каждый человек получает от нее ровно в той мере, в какой испытывает нужду — даже если сам об этом и не подозревает. Если его натура, скажем, такова, что он поклоняется зооморфным идолам и даже находит в этом удовольствие, то Дхармакая не станет его пытаться «переубедить» оставить свои грубые представления, а из сострадания даже через эти идолы постарается удовлетворить запросы данного существа, исподволь подготавливая его сознание к дальнейшему росту — а это очень долгий и сложный процесс, который может длиться многие и многие кальпы, с точки зрения буддийского понимания времени. Помимо «Ашвагхоши» (в меньшей степени Судзуки использует принадлежащее настоящему Ашвагхоше жизнеописание Будды) наш автор опирается также на такие крупные фигуры махаянской мысли, как Нагарджуна, Асанга, Васубандху, Стхирамати. Кроме того, для подкрепления своей позиции он часто цитирует важнейшие махаянские сутры, например, Лотосовую, Ланкаватару, Аватамсаку.
Общеизвестно, что махаяна своим появлением обязана тем расхождениям во взглядах, которые начались в среде буддистов вскоре после ухода в нирвану Будды. Само ее название указывает на то, что она отличает себя от «меньшего» направления, хинаяны. Судзуки отказывается считать, будто «первоначальный буддизм» (который он именует не иначе как «так называемый») имеет право выступать от имени реального Будды, выражать истину в последней инстанции. Этот его отказ напрямую направлен против позиций критикуемых им академических буддологов, считавших именно «Палийский канон» исконным и правильным выражением слова Будды, а школу тхеравада — истинной ступенью развития буддизма. В наши дни давно уже снята острота подобных вопросов, и минуло без малого полвека с тех пор, как представители «хинаяны» попросили не употреблять этот унижающий их традиции термин применительно к ним, заменив его на «тхераваду». В ценностном плане, таким образом, махаяна, и хинаяна признаются сейчас равноправными путями достижения буддийского совершенства. Но в ту эпоху для Судзуки как для человека, отстаивавшего «чистоту веры» махаяны, очень важно было показать сущностные и ценностные различия между двумя основными буддийскими направлениями и доказать, что махаяна имеет не менее высокий статус в истории буддизма, чем хинаяна. Это различие двух направлений прослеживается им на протяжении всего произведения, особенно в той его части, где говорится о личности Будды и его служения. Несомненно, Судзуки как человек, симпатизирующий махаяне, да еше и писавший в эпоху религиозной и политической розни, разделяет в целом ее точку зрения на хинаяну как на более ограниченную «колесницу», приспособленную для нужд менее продвинутых «живых существ». Главное противопоставление хинаяне он видит в выделении махаяной отдельного класса адептов, которые в силу своего сострадательного отношения ко всему уже неспособны утешаться только собственными духовными достижениями, хотя вполне могли бы так поступить. Идеал архата или будды-одиночки неприемлем для щедрого сердца бодхисаттвы, готового саму свою жизнь положить на алтарь нужд живых существ — как духовных, так и материальных. Бодхисаттва не перестанет самоотверженно служить миру до тех пор, пока не спасется последнее существо; только после этого он может спокойно отправляться в нирвану. Судзуки подчеркивает, что идеал нирваны не столь существен для махаянистов; у последних на первом месте стоит идеал просветления, достижение полного, совершенного сознания, абсолютное постижение буддийских истин. Очевидно, что при подобном акценте на просветлении происходит смещение установки: если в раннем буддизме мир представлялся местом тотального страдания, сферой, от которой необходимо избавляться во что бы то ни стало, то теперь этот же самый мир понимается как сущностно идентичный нирванической запредельности. А раз так, то и нет особой причины покидать его, и все дело в изменении фокуса внутреннего видения. Необходимо избавиться от дуалистического мировоззрения, при котором происходит выпадение из реальности в мир вымыслов и фиктивных вещей, главным из которых является представление о вечном, неизменном характере «я». Иначе говоря, освобождение достигается в глубине сознания индивида, и тот, кто достигает освобождения, несет свой свет еще непросветленным массам, при этом полностью осознавая свою идентичность с ними. Ибо непросветленное лишь оборотная часть просветленности, а добро и зло суть относительные понятия, пустые слова, которые человек использует в своих эгоистических целях.
Судзуки подробно останавливается на проблеме кармической обусловленности. Он опровергает как идею о том, что карма должна непременно влиять на социальное состояние индивида, так и взгляд на то, что кармическая жизнь одного человека не в состоянии оказывать никакого воздействия на карму другого. В первом случае Судзуки настаивает, что нравственные заслуги или пороки человека, которые он осуществил в одной жизни, могут влиять лишь на его уровень сознания, но никак не на его имущественный статус или социальный «рейтинг». Вторя основным идеям социализма, весьма модного учения в те дни, он именно общество в целом, общественные установления, законы, нормы делает целиком ответственным за многочисленные случаи социальной несправедливости. В бедах людей виновато общество — поэтому надо менять само устройство общества для того, чтобы люди жили более счастливо. Во втором случае карма, по существу, истолковывается с пантеистических позиций — в этом мире все находится во всем, одно содержит в себе все, и воздействие, оказываемое на одного, неминуемо заденет и другого. Поэтому наш поступок неизбежно повлияет на судьбу других существ, как-то связанных с нами, а в целом, на весь мир, поскольку весь мир связан с нами. Правда, при подобной трактовке кармы вообще любое воздействие оказывается кармическим, что сильно размывает общебуддийское представление об этом феномене. Кроме того, Судзуки практически отождествляет карму с какими-то своеобразными магическими флюидами, исходящими от вещей и людей и затрагивающими самое существо тех, кто соприкасается с ними (см. его рассказ о «чудесном восточном одеянии»). Карма фактически теряет негативные черты, приобретая характер причудливой волшебной ткани, понимаемой философски как абсолютная непреложность, преодолеть которую не дано никому. А ведь цель буддистов состоит не столько в том, чтобы улавливать некие благотворные импульсы прошлого, сколько в том, чтобы выйти из-под власти кармы вообще. Бодхисаттва, в принципе, это существо, которое превзошло кармическую обусловленность: он творит, не оставляя следов, и сам факт его сострадания уже никак не отзывается на нем самом — ибо в природе просветления, которым бодхисаттва наделен в полной мере, ничего уже не может измениться. Будучи близок в какой-то степени идеям психологии религии, Судзуки, конечно, не мог пройти мимо сопоставления ума и чувства с религиозной точки зрения. Для него это два необходимые, взаимодополняющие элемента в общерелигиозном настроении. Чувство без интеллекта ввергает душу в хаос, бесцельные блуждания, делают ее либо сентиментально, либо гедонистически расположенной. Она становится зависимой от множества случайных внешних факторов. С другой стороны, ум без чувства иссушает и ограничивает душу. Оба эти аспекта встречаются и обретают гармонию в некоей сокровенной глубине сердца. Там есть нечто такое, что постоянно жаждет утолить свои бессознательные чаяния живительной водой откровения и просветления. Это и есть истинный источник религиозной спонтанной воли, религиозной устремленности. Чувство делает этот источник одушевленным, а ум подсказывает направление исхода. Подобная сокровенная глубина очень важна для любого существа, ибо, в сущности, она составляет главный смысл его жизни.
Буддизму, с точки зрения Судзуки, присущ в целом рационалистический уклон, поскольку он стремится изменить некоторые неверные установки сознания. Эта рациональность буддизма находится в русле традиционной рационалистичности индийского умозрения — подобная мысль автора довольно любопытна, если вспомнить развитое на Западе той эпохи (и во многом не преодоленное по сей день) категорическое суждение о том, будто Индия является пространством грез и туманной мистики, и потому рациональность присуща отнюдь не ей, а Западу, который изрядно от этого рассудочного груза страдает. Для Судзуки же все наоборот, у него именно Запад, «отягощенный» наследием христианской традиции, с его точки зрения выглядит чересчур эмоциональным и страстным, зачастую склонным к проявлениям наивного реализма и излишнего рвения. Доходящего до откровенного фанатизма.
Вполне в духе махаянской доктрины трактует Судзуки и буддийскую нирвану, тем более что именно понимание нирваны стало настоящим камнем преткновения для западных исследователей, в силу христианской закваски видевших в ней лишь полное самоуничтожение души, отрицание жизни. Махаяна отвергает подобное истолкование нирваны. Точнее, нирвана в духе тотального подавления страстей и окончательной отрешенности от мира являет собой лишь один облик из нескольких. Существует несколько значений нирваны, и наиболее существенным для махаяны, полагает Судзуки, является нирвана в смысле «осуществления в данной жизни всеохватывающей любви и всепостигающей мудрости Дхармакаи». Тогда нирвана — не подавление страстей, но их преобразование, очищение от элементов эгоизма. Важно не уничтожить аффект — ведь, с точки зрения махаяны, покой и движение, страсть и бесстрастие суть одно и то же — а преобразовать его так, чтобы в нем не осталось ничего, кроме сияющей воли Дхармакаи. Таким образом, нирвана в изложении Судзуки становится тем же самым, что и просветление. Обретая просветленное видение, человек достигает нирванического освобождения. В этом состоянии тучи неведения рассеиваются и на достигшего нисходят благодатные лучи солнца-нирваны; оно светит вечно, однако вплоть до момента просветления не в состоянии «прорваться» к человеку по причине дуалистических ограничений в сознании последнего, замешанных на цеплянии за постоянство «я». Это и есть нирвана, ибо нирвана, по определению махаянистов, означает угасание именно «собственного», «своего». Нирвана — не какая-то труднодоступная, неизвестно где расположенная сфера, но все тот же сокровенный уголок человеческого сердца, его святая святых, его смысл и его жизнь. Это место, где нирвана и сансара постигаются как одно и то же, поскольку нирвана, подобно плотиновскому Единому, суть то, что ни от чего себя не отличает. Различия исходят именно с уровня сансары.
Конечно, «Основные принципы» не охватывают всей полноты махаянской проблематики; впрочем, Судзуки и не претендует на это. Он прямо говорит, что его произведение не входит в рассмотрение всех деталей махаянской философии. Многие темы остались им не затронуты. Из наиболее крупных мы могли бы назвать невнимание к сутрам праджняпарамиты, из которых, в сущности, выросла философия Нагарджуны; Cудзуки также фактически обошел вершину философской мысли буддистов, логико-эпистемологическую школу. Несомненно, в этом не было какого-то злого или поверхностного умысла. Просто цель, которую преследовал автор в своем творении и которой он в целом добился, заключалась в наиболее адекватном, с его точки зрения, освещении основных махаянских вопросов — космического характера Будды, проблемы Дхармакаи и трех тел Будды, Татхагатагарбхи, статуса бодхисаттвы и установки на просветление (бодхичитта). Миссия Судзуки по критике существовавших подходов к махаяне оказалась достаточно успешной. В его лице махаяна нашла достаточно горячего защитника. Он сумел показать, что эта ступень буддийской духовной истории не является ни в коем случае шагом назад, напротив, махаяна — еще более полное и живое раскрытие, прорастание тех семян, которые были брошены в почву духовного ожидания самим основателем буддизма, но которые в силу таинственных причин оказались проросшими только в более позднее время. И пусть буддисты хинаяны с рациональной точки зрения во многом более точны относительно некоторых аспектов личности Будды, нельзя отрицать и того, что провозглашенный Буддой тезис о «буддийственности» каждого учения, которое согласуется в меньшей или большей степени с духом (не с буквой!) буддизма, вполне оправдывает многочисленные поиски и находки адептов махаянского учения. В это верил Судзуки, об этом он писал, это он пытался отстаивать.