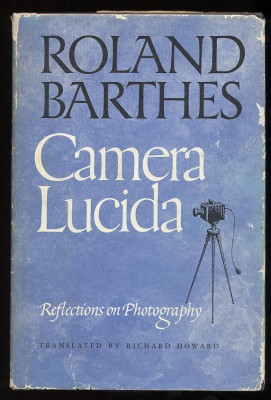Жизнь - как Удивительное Путешествие.
Ролан Барт. camera lucida
Классика теории фотографии.
На сайте мы выложили книгу без фотографий - только тексы.
Для желающих увидеть оригинальный текст с фотографиями - пожалуйста, скачивайте архив.
Книга запакована в rar-архив, качайте смело:).
по моему мнению, подлежит "схватыванию" — это тонкая моральная текстура, а не просто мимика, и поскольку Фотография, если не считать работ некоторых великих портретистов, мало способна на эти тонкости, постольку я не знаю, каким образом воздействовать на мою кожу изнутри. Я решаю "пустить" по моим губам легкую усмешку, которую мне хотелось бы сделать "неуловимой", улыбку, с помощью которой я — одновременно с качествами, присущими моей природе, — дал бы понять свое ироническое отношение (conscience amusee) к церемониалу фотографирования. Я готовлюсь к социальной игре, позирую, я это знаю и хотел бы, чтобы и вы об этом знали, но дополнительная информация такого рода не должна (эта задача, по правде говоря, равносильна квадратуре круга) ни в коей мере изменить драгоценное существо моей личности, то, чем я являюсь вне любого изображения. В общем, я хотел бы, чтобы мой внешний вид, переменчивый и амортизированный в зависимости от возраста и обстоятельств в тысяче меняющихся снимков, всегда совпадал с моим "я" (отличающимся, как известно, особой глубиной). Но утверждать можно как раз противоположное: это "я" никогда не совпадает с моим изображением; ведь изображение тяжело, неподвижно, упрямо (поэтому общество и опирается на него), а "я" легко, разделено, распылено, оно как сфера, которая не стоит на месте, постоянно меняя положение в сосуде моего тела. Если бы фотография по крайней мере могла бы снабдить меня нейтральным, анатомическим телом, которое ничего не означает! Увы, благонамеренная Фотография обрекает меня на то, что мое лицо всегда имеет выражение, а мое тело никогда не обретает нулевой степени самого себя (разве что моя мама? Не безразличие лишает образ тяжести, — ибо ничто лучше "объективного" снимка, в стиле фотоавтоматов, поставленных в метро, не превратит вас в лицо, разыскиваемое полицией, — а любовь, высшая степень любви).
Видеть самого себя в историческом масштабе (если не считать отражений в зеркале) — дело недавнего прошлого, поскольку портреты — написанные красками, нарисованные, миниатюры — до распространения Фотографии были благами, доступными немногим (bien restraint), призванными подчеркнуть высокий материальный или социальный статус их обладателей; в любом случае живописный портрет, как бы он ни походил на оригинал, это не фотография. Странно, что никто не подумал о расстройстве, которое этот новый акт вносит в культуру. Я вызываю в своем воображении Историю Взгляда. Ведь Фотография — это явление меня в качестве другого, ловкая диссоциация сознания собственной идентичности. Факт еще более любопытный: именно до появления Фотографии люди больше всего говорили о двойничестве. Геавтоскопию' сравнивают с галлюцинозом; на протяжении многих веков это была великая мифическая тема. В настоящее же время мы как бы вытеснили глубокое безумие Фотографии: о своем мифическом наследии она напоминает лишь легким недомоганием, охватывающим меня, когда я вижу "себя" изображенным на фотобумаге.
Это беспокойство в основе своей связано с собственностью. Последнее обстоятельство находит своеобразное выражение в праве: кому принадлежит фотография? тому, кого сфотографировали? фотографу? Что такое пейзаж как не то, что позаимствовано у собственника земельного участка? Неуверенность общества, которое основывает свое бытие на обладании, выразилась в бесконечных судебных процессах. Фотография превратила субъект в объект, даже, так сказать, в объект музейный: для того чтобы сделать первые фотопортреты (это было приблизительно в 1840 г.), надо было принуждать снимаемого субъекта подолгу позировать под стеклянной крышей при ярком солнечном свете. Подобное становление объектом заставляло страдать как хирургическая операция. Потом изобрели прибор, называемый подголовником, что-то вроде протеза, невидимого для объектива, который поддерживал тело при переходе к неподвижности и удерживал его в этом состоянии. Подголовник был как бы подножьем статуи, в которую мне предстояло превратиться, корсетом моей воображаемой сущности.
Фотопортрет представляет собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются, противостоят и деформируют друг друга четыре вида воображаемого. Находясь перед объективом, я одновременно являюсь тем, кем себя считаю, тем, кем я хотел бы, чтобы меня считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство. Странное, иначе говоря, действо: я непрестанно имитирую самого себя, и в силу этого каждый раз, когда я фотографируюсь (позволяю себя сфотографировать), меня неизменно посещает ощущение неаутентичности, временами даже поддельности, какое бывает при некоторых кошмарах. В плане воображения Фотография (та, которая соответствует моей интенции) представляет то довольно быстротечное мгновение, когда я, по правде говоря, не являюсь ни субъектом, ни объектом, точнее, я являюсь субъектом, который чувствует себя превращающимся в объект: в такие моменты я переживаю микроопыт смерти (заключения в скобки), становлюсь настоящим призраком. Фотографу это хорошо известно, и сам он (хотя бы по причинам коммерческого порядка) боится смерти, в которую его жест меня погружает. Не было бы ничего забавнее судорожных попыток фотографов сделать модель "живой", если бы при этом она не становилась их пассивной жертвой, le plastron, по выражению Сада2. Жалкие потуги: меня усаживают перед мольбертом с кистями; меня выводят наружу ("на улице" получается живее, чем "дома"), меня заставляют позировать на фоне лестницы, потому что за моей спиной играет группа детей, на глаза попадается скамейка (какое везение!), и меня тут же на нее усаживают. Все происходит так, как будто, сам охваченный ужасом, Фотограф ведет титаническую борьбу за то, чтобы Фотография не стала Смертью. Но, обращенный в неодушевленный предмет, я уже не борюсь. Я предчувствую, что пробуждение от этого дурного сна будет еще более болезненным: ибо мне неизвестно, что общество сделает с моим снимком, что оно на нем прочитает (ведь есть столько способов прочтения одного и того же лица); когда я обнаруживаю себя на снимке, я убеждаюсь, что стал Bce-Образом, т.е. самой Смертью. Другие, Другой, лишают меня права на самого себя, они с ожесточением делают из меня объект, держат меня из милости в своем распоряжении, занесенным в картотеку, готовым к любым, самым утонченным трюкам. Однажды мой снимок сделал отличный фотограф: мне казалось, что я читаю на нем скорбь от недавно понесенной утраты; на какое-то время эта фотография как бы возвратила меня себе. Но некоторое время спустя я обнаружил эту же самую фотографию на обложке одного пасквиля: благодаря хитрому приему, примененному при печати, у меня было ужасное, лишенное внутренней жизни лицо, зловещее и отталкивающее, как и тот образ, который авторы книги хотели придать моему языку. ("Частная жизнь" есть не что иное, как та зона пространства и времени, где я не являюсь образом, предметом. Право быть субъектом — это мое политическое право, которое я должен защищать.)
В конечном итоге то, что я ищу в своей фотографии ("интенция", в соответствии с которой я ее разглядываю), есть Смерть, она является ее эйдосом. Так что единственная вещь, которую я выношу, люблю и воспринимаю как привычную, когда меня фотографируют, это, как ни странно, шум аппарата. На мой взгляд, орган Фотографа — не глаз, который ужасает меня, а палец, связанный со щелчком объектива, с металлическим скольжением пластинок ( когда такие вещи еще были в фотоаппарате). В моей любви к механическим шумам есть нечто сладострастное, как если бы во всей Фотографии они были тем единственным, за что цепляется мое желание, как если бы своим коротким пощелкиванием они разбивали смертоносное пространство Позы. В шуме времени для меня нет ничего печального: я люблю колокола, настенные и обычные часы — и мне вспоминается, что первоначальные компоненты фото вышли из мастерской краснодеревщика и лаборатории точной механики; на вид старые аппараты были похожи на настенные часы, и вероятно кто-то очень древний во мне еще слышит в фотокамере живой звук дерева.
6
Беспорядок, существование которого я с самого начала отметил во всех жанрах и сюжетах Фотографии, я обнаружил и в фотографиях с точки зрения Spectator'а, каковым я являлся; эту позицию я и хочу теперь исследовать.
Как и каждый из современных людей, я вижу повсюду множество фотографий; они приходят ко мне из мира, даже если я об этом не прошу. Это всего лишь "изображения", появляющиеся в нерассортированном, хаотическом виде. Однако я констатировал, что некоторые из фото, которые прошли отбор, были оценены в прямом и переносном смысле (evaluees, appreciees), собраны в альбомах или журналах, вызывали у меня кратковременные приступы ликования, как если бы они отсылали к неслышному ядру, к эротической, причиняющей боль ценности (сколь бы благонамеренным ни казалось на первый взгляд изображенное на них); другие же, напротив, оставляли меня безразличным настолько, что, видя как они размножаются, подобно сорнякам, я испытывал по отношению к ним что-то вроде неприязни и даже раздражения. Бывают моменты, когда я ненавижу Фото: что мне делать, к примеру, если говорить о старых мастерах, со стволами старых деревьев Эжена Атже, с обнаженными Пьера Буше, многократно экспонированными снимками Жермены Круль (Krull)? И это не все: я заметил, что по существу никогда не любил всех фотографий одного фотографа. Из всего Стиглица меня приводит в восторг — но в восторг безумный — только самая известная из его фотографий (Конечная остановка конок, Нью-Йорк, 1893). Один снимок Мэйплторпа навел меня на мысль, что я, наконец, нашел "моего" фотографа, но нет, и у Мэйплторпа мне не все нравится. Итак, я не смог прийти к понятию художественного стиля, столь удобному, когда речь заходит об истории, культуре, эстетике. Благодаря сильной увлеченности я чувствовал хаотичность, прихотливость, загадочность фотографий, чувствовал, что Фотография — искусство ненадежное, как ненадежной, если бы кому-то пришло в голову ее основать, была бы наука о соблазнительных и ненавистных телах. Я отдавал себе отчет, что речь здесь шла об упрощенных реакциях субъекта, которые, находя выражение во фразах типа я люблю / я не люблю, как бы останавливаются на полуслове; а у кого из нас нет своей внутренней шкалы пристрастий, неприязней и того, что оставляет безразличным? Но у меня всегда было стремление аргументировать свои настроения; аргументировать не с целью их оправдания, еще меньше для того, чтобы заполнить своей индивидуальностью сцену текста, но, напротив, чтобы растянуть эту индивидуальность до науки о субъекте, название которой не имеет значения при условии, что она (пока не произошло ничего похожего) достигнет уровня всеобщности, не редуцирующего, не превращающего в ничто меня самого. Так что нужно было браться за дело.
7
Тогда я решил взять за путеводную нить моего нового анализа притягательность, которой обладали для меня некоторые фотографии. Ибо по крайней мере эта притягательность сомнений не вызывала. Какое имя ей дать? Ослепление? Нет, конкретное фото, которое я выделяю и люблю, не имеет ничего общего с блестящей точкой, раскачивающейся перед глазами и вызывающей головокружение; производимое им во мне состояние противоположно оцепенению, это скорее внутренняя возбужденность, праздник, но и труд, давление невыразимого, которое хочет себя высказать. Тогда что же это? Интерес? Во всяком случае, интерес мимолетный; я не имею нужды допрашивать свою взволнованность, чтобы перечислить причины, побуждающие меня интересоваться фотографией: можно либо желать предмет, пейзаж, тело, которые на ней представлены, либо в настоящем или прошлом любить сфотографированное существо, либо удивляться тому, что видишь, либо восхищаться или обсуждать результаты работы фотографа и т. д. и т. п. Но все эти интересы не выражены и разнородны: конкретное фото может удовлетворять какой-то из этих интересов и при всем том мало меня занимать, а если другое фото очень меня интересует, мне хотелось бы знать, что в нем составляет для меня tilt3, взрывает меня (sets me off). Мне показалось, что словом, наиболее подходящим для того, чтобы (пусть предварительно) обозначить притягательность, какой обладают для меня некоторые фотографии, является слово "приключение". Одно фото во мне "приключается", другое — нет.
Принцип приключения дает Фото возможность существовать для меня. И наоборот, без приключения нет и фото. Процитирую Сартра: "Журнальные фотографии могут с успехом "мне ни о чем не говорить", т. е. я рассматриваю их, не занимая никакой экзистенциальной позиции. В таком случае личности, фотографии которых я разглядываю, хотя и доступны благодаря фото, но вне экзистенциальной позиции, точно так же, как Рыцарь и Смерть хотя и постигаются благодаря гравюре Дюрера, но мной не полагаются. Бывают случаи, когда фотография оставляет меня безразличным настолько, что я не удосуживаюсь даже "превратить ее в образ". Снимок неопределенно конституируется в качестве объекта, а изображенные на нем персонажи конституируются в качестве персонажей, но исключительно по причине своего сходства с человеческими существами, вне какой-то особой интенциональности." вызывала. Какое имя ей дать ? Ослепление ? Нет, конкретное фото, которое я выделяю и люблю, не имеет ничего общего с блестящей точкой, раскачивающейся перед глазами и вызывающей головокружение; производимое им во мне состояние противоположно оцепенению, это скорее внутренняя возбужденность, праздник, но и труд, давление невыразимого, которое хочет себя высказать. Тогда что же это? Интерес? Во всяком случае, интерес мимолетный; я не имею нужды допрашивать свою взволнованность, чтобы перечислить причины, побуждающие меня интересоваться фотографией: можно либо желать предмет, пейзаж, тело, которые на ней представлены, либо в настоящем или прошлом любить сфотографированное существо, либо удивляться тому, что видишь, либо восхищаться или обсуждать результаты ра
Видеть самого себя в историческом масштабе (если не считать отражений в зеркале) — дело недавнего прошлого, поскольку портреты — написанные красками, нарисованные, миниатюры — до распространения Фотографии были благами, доступными немногим (bien restraint), призванными подчеркнуть высокий материальный или социальный статус их обладателей; в любом случае живописный портрет, как бы он ни походил на оригинал, это не фотография. Странно, что никто не подумал о расстройстве, которое этот новый акт вносит в культуру. Я вызываю в своем воображении Историю Взгляда. Ведь Фотография — это явление меня в качестве другого, ловкая диссоциация сознания собственной идентичности. Факт еще более любопытный: именно до появления Фотографии люди больше всего говорили о двойничестве. Геавтоскопию' сравнивают с галлюцинозом; на протяжении многих веков это была великая мифическая тема. В настоящее же время мы как бы вытеснили глубокое безумие Фотографии: о своем мифическом наследии она напоминает лишь легким недомоганием, охватывающим меня, когда я вижу "себя" изображенным на фотобумаге.
Это беспокойство в основе своей связано с собственностью. Последнее обстоятельство находит своеобразное выражение в праве: кому принадлежит фотография? тому, кого сфотографировали? фотографу? Что такое пейзаж как не то, что позаимствовано у собственника земельного участка? Неуверенность общества, которое основывает свое бытие на обладании, выразилась в бесконечных судебных процессах. Фотография превратила субъект в объект, даже, так сказать, в объект музейный: для того чтобы сделать первые фотопортреты (это было приблизительно в 1840 г.), надо было принуждать снимаемого субъекта подолгу позировать под стеклянной крышей при ярком солнечном свете. Подобное становление объектом заставляло страдать как хирургическая операция. Потом изобрели прибор, называемый подголовником, что-то вроде протеза, невидимого для объектива, который поддерживал тело при переходе к неподвижности и удерживал его в этом состоянии. Подголовник был как бы подножьем статуи, в которую мне предстояло превратиться, корсетом моей воображаемой сущности.
Фотопортрет представляет собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются, противостоят и деформируют друг друга четыре вида воображаемого. Находясь перед объективом, я одновременно являюсь тем, кем себя считаю, тем, кем я хотел бы, чтобы меня считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство. Странное, иначе говоря, действо: я непрестанно имитирую самого себя, и в силу этого каждый раз, когда я фотографируюсь (позволяю себя сфотографировать), меня неизменно посещает ощущение неаутентичности, временами даже поддельности, какое бывает при некоторых кошмарах. В плане воображения Фотография (та, которая соответствует моей интенции) представляет то довольно быстротечное мгновение, когда я, по правде говоря, не являюсь ни субъектом, ни объектом, точнее, я являюсь субъектом, который чувствует себя превращающимся в объект: в такие моменты я переживаю микроопыт смерти (заключения в скобки), становлюсь настоящим призраком. Фотографу это хорошо известно, и сам он (хотя бы по причинам коммерческого порядка) боится смерти, в которую его жест меня погружает. Не было бы ничего забавнее судорожных попыток фотографов сделать модель "живой", если бы при этом она не становилась их пассивной жертвой, le plastron, по выражению Сада2. Жалкие потуги: меня усаживают перед мольбертом с кистями; меня выводят наружу ("на улице" получается живее, чем "дома"), меня заставляют позировать на фоне лестницы, потому что за моей спиной играет группа детей, на глаза попадается скамейка (какое везение!), и меня тут же на нее усаживают. Все происходит так, как будто, сам охваченный ужасом, Фотограф ведет титаническую борьбу за то, чтобы Фотография не стала Смертью. Но, обращенный в неодушевленный предмет, я уже не борюсь. Я предчувствую, что пробуждение от этого дурного сна будет еще более болезненным: ибо мне неизвестно, что общество сделает с моим снимком, что оно на нем прочитает (ведь есть столько способов прочтения одного и того же лица); когда я обнаруживаю себя на снимке, я убеждаюсь, что стал Bce-Образом, т.е. самой Смертью. Другие, Другой, лишают меня права на самого себя, они с ожесточением делают из меня объект, держат меня из милости в своем распоряжении, занесенным в картотеку, готовым к любым, самым утонченным трюкам. Однажды мой снимок сделал отличный фотограф: мне казалось, что я читаю на нем скорбь от недавно понесенной утраты; на какое-то время эта фотография как бы возвратила меня себе. Но некоторое время спустя я обнаружил эту же самую фотографию на обложке одного пасквиля: благодаря хитрому приему, примененному при печати, у меня было ужасное, лишенное внутренней жизни лицо, зловещее и отталкивающее, как и тот образ, который авторы книги хотели придать моему языку. ("Частная жизнь" есть не что иное, как та зона пространства и времени, где я не являюсь образом, предметом. Право быть субъектом — это мое политическое право, которое я должен защищать.)
В конечном итоге то, что я ищу в своей фотографии ("интенция", в соответствии с которой я ее разглядываю), есть Смерть, она является ее эйдосом. Так что единственная вещь, которую я выношу, люблю и воспринимаю как привычную, когда меня фотографируют, это, как ни странно, шум аппарата. На мой взгляд, орган Фотографа — не глаз, который ужасает меня, а палец, связанный со щелчком объектива, с металлическим скольжением пластинок ( когда такие вещи еще были в фотоаппарате). В моей любви к механическим шумам есть нечто сладострастное, как если бы во всей Фотографии они были тем единственным, за что цепляется мое желание, как если бы своим коротким пощелкиванием они разбивали смертоносное пространство Позы. В шуме времени для меня нет ничего печального: я люблю колокола, настенные и обычные часы — и мне вспоминается, что первоначальные компоненты фото вышли из мастерской краснодеревщика и лаборатории точной механики; на вид старые аппараты были похожи на настенные часы, и вероятно кто-то очень древний во мне еще слышит в фотокамере живой звук дерева.
6
Беспорядок, существование которого я с самого начала отметил во всех жанрах и сюжетах Фотографии, я обнаружил и в фотографиях с точки зрения Spectator'а, каковым я являлся; эту позицию я и хочу теперь исследовать.
Как и каждый из современных людей, я вижу повсюду множество фотографий; они приходят ко мне из мира, даже если я об этом не прошу. Это всего лишь "изображения", появляющиеся в нерассортированном, хаотическом виде. Однако я констатировал, что некоторые из фото, которые прошли отбор, были оценены в прямом и переносном смысле (evaluees, appreciees), собраны в альбомах или журналах, вызывали у меня кратковременные приступы ликования, как если бы они отсылали к неслышному ядру, к эротической, причиняющей боль ценности (сколь бы благонамеренным ни казалось на первый взгляд изображенное на них); другие же, напротив, оставляли меня безразличным настолько, что, видя как они размножаются, подобно сорнякам, я испытывал по отношению к ним что-то вроде неприязни и даже раздражения. Бывают моменты, когда я ненавижу Фото: что мне делать, к примеру, если говорить о старых мастерах, со стволами старых деревьев Эжена Атже, с обнаженными Пьера Буше, многократно экспонированными снимками Жермены Круль (Krull)? И это не все: я заметил, что по существу никогда не любил всех фотографий одного фотографа. Из всего Стиглица меня приводит в восторг — но в восторг безумный — только самая известная из его фотографий (Конечная остановка конок, Нью-Йорк, 1893). Один снимок Мэйплторпа навел меня на мысль, что я, наконец, нашел "моего" фотографа, но нет, и у Мэйплторпа мне не все нравится. Итак, я не смог прийти к понятию художественного стиля, столь удобному, когда речь заходит об истории, культуре, эстетике. Благодаря сильной увлеченности я чувствовал хаотичность, прихотливость, загадочность фотографий, чувствовал, что Фотография — искусство ненадежное, как ненадежной, если бы кому-то пришло в голову ее основать, была бы наука о соблазнительных и ненавистных телах. Я отдавал себе отчет, что речь здесь шла об упрощенных реакциях субъекта, которые, находя выражение во фразах типа я люблю / я не люблю, как бы останавливаются на полуслове; а у кого из нас нет своей внутренней шкалы пристрастий, неприязней и того, что оставляет безразличным? Но у меня всегда было стремление аргументировать свои настроения; аргументировать не с целью их оправдания, еще меньше для того, чтобы заполнить своей индивидуальностью сцену текста, но, напротив, чтобы растянуть эту индивидуальность до науки о субъекте, название которой не имеет значения при условии, что она (пока не произошло ничего похожего) достигнет уровня всеобщности, не редуцирующего, не превращающего в ничто меня самого. Так что нужно было браться за дело.
7
Тогда я решил взять за путеводную нить моего нового анализа притягательность, которой обладали для меня некоторые фотографии. Ибо по крайней мере эта притягательность сомнений не вызывала. Какое имя ей дать? Ослепление? Нет, конкретное фото, которое я выделяю и люблю, не имеет ничего общего с блестящей точкой, раскачивающейся перед глазами и вызывающей головокружение; производимое им во мне состояние противоположно оцепенению, это скорее внутренняя возбужденность, праздник, но и труд, давление невыразимого, которое хочет себя высказать. Тогда что же это? Интерес? Во всяком случае, интерес мимолетный; я не имею нужды допрашивать свою взволнованность, чтобы перечислить причины, побуждающие меня интересоваться фотографией: можно либо желать предмет, пейзаж, тело, которые на ней представлены, либо в настоящем или прошлом любить сфотографированное существо, либо удивляться тому, что видишь, либо восхищаться или обсуждать результаты работы фотографа и т. д. и т. п. Но все эти интересы не выражены и разнородны: конкретное фото может удовлетворять какой-то из этих интересов и при всем том мало меня занимать, а если другое фото очень меня интересует, мне хотелось бы знать, что в нем составляет для меня tilt3, взрывает меня (sets me off). Мне показалось, что словом, наиболее подходящим для того, чтобы (пусть предварительно) обозначить притягательность, какой обладают для меня некоторые фотографии, является слово "приключение". Одно фото во мне "приключается", другое — нет.
Принцип приключения дает Фото возможность существовать для меня. И наоборот, без приключения нет и фото. Процитирую Сартра: "Журнальные фотографии могут с успехом "мне ни о чем не говорить", т. е. я рассматриваю их, не занимая никакой экзистенциальной позиции. В таком случае личности, фотографии которых я разглядываю, хотя и доступны благодаря фото, но вне экзистенциальной позиции, точно так же, как Рыцарь и Смерть хотя и постигаются благодаря гравюре Дюрера, но мной не полагаются. Бывают случаи, когда фотография оставляет меня безразличным настолько, что я не удосуживаюсь даже "превратить ее в образ". Снимок неопределенно конституируется в качестве объекта, а изображенные на нем персонажи конституируются в качестве персонажей, но исключительно по причине своего сходства с человеческими существами, вне какой-то особой интенциональности." вызывала. Какое имя ей дать ? Ослепление ? Нет, конкретное фото, которое я выделяю и люблю, не имеет ничего общего с блестящей точкой, раскачивающейся перед глазами и вызывающей головокружение; производимое им во мне состояние противоположно оцепенению, это скорее внутренняя возбужденность, праздник, но и труд, давление невыразимого, которое хочет себя высказать. Тогда что же это? Интерес? Во всяком случае, интерес мимолетный; я не имею нужды допрашивать свою взволнованность, чтобы перечислить причины, побуждающие меня интересоваться фотографией: можно либо желать предмет, пейзаж, тело, которые на ней представлены, либо в настоящем или прошлом любить сфотографированное существо, либо удивляться тому, что видишь, либо восхищаться или обсуждать результаты ра